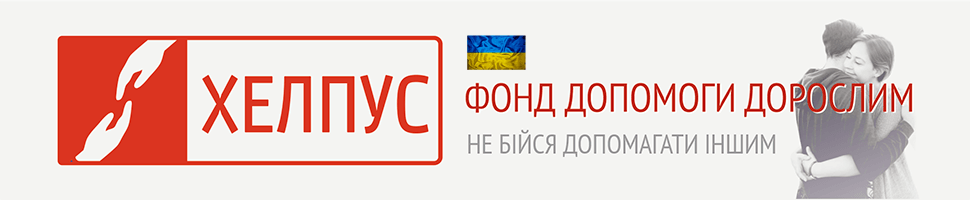Оксана Орлова: Я так понимаю, что есть тема про смерть и про смерть в нашем государстве: какое соотношение, отличается ли оно от понятия «смерть» в других странах. Есть ли отличие? Почему мы эту тему выделяем как отдельную?
Анна Сонькина: А как ты думаешь?
Оксана Орлова: Для меня есть всё-таки отличие, потому что у нас не принято говорить про это, не принято общаться с человеком, у которого кто-то умирает или он сам умирает. Хочется отделиться. Считается, что это процесс, который за какой-то линией, за каким-то таким рубежом, и не стоит к этому приближаться и говорить про это. У меня есть представление о том, что в «другом мире», ну, например, в Европе… Понятно, что на Востоке совсем по-другому… А вот на этом условном Западе, мне кажется, по-другому. Хотя тоже смерть вынесена в больнице, тоже не умирают дома, как и у нас сейчас в городах, то есть тоже это некий отдельный процесс. Если раньше у нас умирал человек дома, и это видели дети, человек лежал, потом испускал дух, то сейчас это какое-то отдельное стерильное место, часто ассоциирующееся с реанимацией, куда человек уходит при каких-то медицинских условиях. Вроде бы и у нас, и на условном «Западе» есть смерть, но отношение к смерти как будто бы разное. Как будто бы там она есть, а у нас её как будто бы не присутствует.
Анна Сонькина: Я думаю, что люди – везде люди. Я думаю, что там (условно «там») тоже люди склонны стараться не думать о смерти. Скорее есть больше тенденций по осмыслению, какой-то подготовке, работы со смертью. У меня есть ощущение, что мы, как и во всём, просто отстаём. Хотя есть мнение, что мы принципиально чем-то отличаемся. Не думаю. Я думаю, мы просто отстаём. Мы не пришли туда ещё пока. Мы всегда вроде как ориентируемся на Запад, и я очень согласна с этим. Но в этом, как и во многом другом, интересно было бы как-то умно смотреть на Запад, в том смысле, что они настолько впереди нас на том пути, по которому мы тоже хотели бы пойти, что может быть мы можем уже научиться на каких-то ошибках, увидеть какие-то тенденции… В отношении смерти, это то, о чём Шмеман… Ты уже прочитала Шмемана? «Литургия смерти», новая книжка, недавно вышедшая, просто потрясающая. О том, что на Западе неправильное понимание смерти, как он считает. Неправильное в плане отрицания её заменяется другим, с его точки зрения тоже неправильным, пониманием смерти как такой совсем нестрашной: «мы её сейчас припудрим, причешем, мы готовимся к ней, давайте говорить об этом, всё будет симпатично». Вот консультанты по смерти появляются. Подготовка к смерти, планирование. Вроде как – да, мы всё время говорим о том, что это очень важно, но как будто это какая-то другая крайность. Он очень интересно описывается духовные опасности этой другой крайности. Это очень перекликается с моим опытом поездки в Голландию. Я поехала специально на интенсивный курс по биоэтике, узнать, что они говорят про свою легальную эвтаназию. Мне тогда показалось, что они пришли к эвтаназии из этой вот тенденции сделать смерть такой… Как бы зачем человеку не только смерть, но и страдание вообще? Зачем человеку страдать? Когда нет никакого смысла страданию…
Оксана Орлова: То есть это фактически боль – физическая, душевная.
Анна Сонькина: Да. Осмысление смерти в этой крайности уходит в то, что у неё нет смысла. А страдание уж тем более бессмысленно. Единственный смысл смерти – сделать так, чтобы она перестала нас пугать.
Оксана Орлова: Всё-таки пугает.
Анна Сонькина: Именно для того, чтобы уйти от страха, приходят к такому. Но и то, и то – это в общем отрицание. И самое главное – бессмыслица. Она не имеет никакого смысла. Бессмысленная смерть, бессмысленная жизнь, об этом можно говорить очень много… Шмеман удивительно об этом написал. Но что интересно, возвращаясь к тому, о чём ты говоришь, что мы ещё пока совсем в той крайности и сильно отстали… Вот вышла эта книжка, «Литургия смерти». Так сам Шмеман её назвал. И книжка не получила гриф издательского отдела патриархии, потому что им не понравилось название. Я сначала подумала: «Как странно!». А когда я стала дарить нескольким своим знакомым книжку, они говорили: «Ой, Боже мой!».
Оксана Орлова: Серьёзно?
Анна Сонькина: Да! И хотя у меня масса других иллюстраций того, как у нас относятся к смерти, но это в очередной раз… Ну надо же, такая неготовность даже задуматься о смерти!
Оксана Орлова: Ты знаешь, меня поразили две вещи, когда мы с тобой раньше разговаривали. Я просто озвучу их. Когда ты рассказывала про то, как ты была, кажется, в Англии, в детском хосписе. Ты рассказывала, как там умирают дети, какая работа с ними ведётся. Меня поразил один момент. Исправь меня, если я передёргиваю, ты говорила, что есть некая комната, и когда ребёнок умирает, его кладут туда, и он может лежать там до трёх недель, туда приходят родственники и друзья, которые имеют возможность попрощаться, побыть там. И перед этим, когда ребёнок уходит, пока он ещё живой, это подростки, я так понимаю, с ним ведут разговоры о том, как бы он хотел, чтобы эта комната выглядела, какие картины бы там висели, какая музыка… Какое напоминание о нём, послание…
Анна Сонькина: Да, так и есть.
Оксана Орлова: Меня это так поразило!
Анна Сонькина: Это действительно всех поражает. Мы ездили смотреть английские хосписы с Галей Чаликовой, первым директором Фонда «Подари Жизнь», с прекрасной Галей. Мы поехали именно потому, что мы были очень открыты, она хотела узнать больше о том, как помогать умирающим детям. Но вот это, я помню, было единственным, что её просто шокировало! Нас завели просто как посетителей этого места, которое внешне такое симпатичное, про него говорят: «Это дом жизни, мы здесь живём каждый день». Оно такое яркое, красивое, видно, что там много жизни происходит. Абсолютно не меняя выражения лица, не меняя тона голоса, нам говорят: «А вот здесь у нас…»… У всех называется по-своему – «тихая комната» или «маленькая комнатка», как-нибудь очень симпатично называется. И там есть холодильник, чтобы можно было сделать холодно, так практически продумано. «Ну а как вы думаете, здесь же будет лежать тело умершего ребёнка. У нас есть люлечки для маленьких детишек и кроватки для больших». Мы на это так смотрели: «Ничего себе!». И этот хоспис, в котором обязательно есть эта комнатка, стоит посреди обычного индустриального района. Любому, если зайдёт, покажут. Вот такая комнатка. Я, правда, не знаю, я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я предлагаю в России делать так. Я не знаю.
Оксана Орлова: Я в своей психологической практике работаю с людьми, которые умирают. В какой-то момент я начинаю с ними прямо говорить о том, что происходит. Я спрашиваю о том, какую вы хотите память о себе оставить? Чтобы как о вас помнили? Что вы в жизни наработали, оставили, какое впечатление, как вам кажется? Это же примерно то же самое, только на каком-то нашем языке.
Анна Сонькина: Конечно. Это просто таким детским языком. Этим детям показывают эту комнатку: «Здесь ты будешь лежать». Я видела фотографии того, как дети придумывают, например, просят, чтобы принесли из дома все плакаты любимых рок-звёзд, чтобы они там висели. Чтобы музыка такая-то играла. Иногда дети заранее похороны свои продумывают. Я при этом никогда не присутствовала, но мне рассказывали. Говорят: «пусть все придут в розовом цвете, пожалуйста». Сёстры хосписа мне рассказывали, что частью их работы является посещение похорон. Одна медсестра, которая уже много лет там работает, лет двадцать, говорит: «У меня есть нарядное, подходящее по случаю платье всех цветов радуги, потому что мне уже приходилось побывать на похоронах, где были все возможные цвета».
Оксана Орлова: И ещё один момент. Я помню, что ты говорила, что ты преподавала каким-то студентам и спрашивала у них, что для них является «хорошей смертью».
Анна Сонькина: Я так всегда делаю.
Оксана Орлова: Я к себе это примерила, что бы для меня…
Анна Сонькина: Да! Что для тебя «хорошая смерть»?
Оксана Орлова: Я хотела бы, чтобы я быстро умерла или чтобы, как классики любят, «умер во сне»?
Анна Сонькина: Или в бою!
Оксана Орлова: Да, или в бою, с мечом и щитом? Либо, может быть, действительно, чтобы ты знала, что у тебя осталось какое-то время, ты можешь завершить, успеть сказать, успеть услышать… У меня нет до сих пор ответа, каждый раз по-разному. Непонятно, если оказаться в этой ситуации, как на самом деле…
Анна Сонькина: Ты знаешь, у меня есть последняя лекция в части курса биоэтики – по эвтаназии. Я всегда её начинаю с этого вопроса. Мне это очень нравится. Я говорю: «Что для вас хорошая смерть? Выкрикивайте!». После того, как они проглотят свой первый шок: «Нас никто никогда не спрашивал об этом, мы никогда не задумывались об этом», те, кто готов об этом задуматься, выкрикивают, мы всё это записываем, и всегда одна и та же картина. Независимо от возраста, первый это курс или шестой, или это уже готовые врачи, или это вообще немедицинская аудитория, всегда одна и та же картинка. Часть людей выкрикивают: «Я хочу умереть внезапно, неожиданно, во сне». Многие понимают, что не всем так повезёт. Дальше начинается: «Дома. Чтобы рядом были мои близкие». А другие говорят: «Нет, чтобы рядом не было близких, потому что им это тяжело». Потом говорят: «Главное, чтобы у меня была возможность решить». Возможность принимать решения. «В сознании». А некоторые говорят – «Без сознания». А как это осуществить? Опять-таки, «чтобы я мог принимать решение, чтобы я мог выбрать». Потом мы подходим в ходе лекции к тому, как, скорее всего, большинство из нас умрёт в России. Получается очень хороший эффект. С тем, как сейчас устроена система всего, нас ожидает – и тут я показываю картинку больного в реанимации. Как это соотносится с тем, что большинство из вас хочет? И тут каким-то образом врачи в них куда-то деваются, просыпаются люди, и говорят: «Ну надо же!»
Оксана Орлова: Интересно противопоставление: люди – врачи. Как будто здесь «или-или».
Анна Сонькина: Да. Ты знаешь, как будто бы! Мне кажется, большая часть моей работы, моей кафедры, в том, чтобы врачи не забыли, что они тоже люди. Что они работают на поле человеческих судеб, сердец, жизней.
Оксана Орлова: Я знаю, что у нас практически не пускают в реанимацию. В редких случаях пускают, когда человек умирает. К детям не пускают! Ребёнок умирает один, это какая-то катастрофа. Не очень понятно, почему? Что за такой феномен у нас в стране сложился? Как ты это объясняешь?
Анна Сонькина: Давай не будем на это тратить драгоценное время. Я только что с целой передачи, посвящённой этому. Я думаю, это объясняется не тем, что мы обсуждаем здесь. По крайней мере, не только этим. Много чем. Просто, мне кажется, раз реанимации закрыты, тем более надо подумать, хочешь ли ты оказаться в реанимации, когда будешь умирать?
Оксана Орлова: Мне кажется, это всё-таки важный вопрос – почему? Я всегда ищу какие-то причины…
Анна Сонькина: Тогда я тебе скажу, раз ты так хочешь, как мне кажется. То, что реанимации закрыты – это явление совершенно другого порядка. Это не потому, что они не хотят… Они как раз если пускают, то к умирающим. Тем, кому, чтобы выздороветь, очень надо силы в себе найти – в это не верят. Но сам факт того, что в реанимациях умирают люди – это уже интересно. Реанимация – само слово! – это место, где возвращают к жизни. Это место, где должны лечить, вылечивать, спасать. Понятно, что есть смерти, которые происходят – и их не так мало – когда травмы или острые ситуации, пытаемся спасти, но не получается. Но на самом деле медицина сейчас становится настолько эффективной (конечно, не у нас, простите мне опять мой непатриотизм, в котором меня обвиняют в последнее время), что уменьшается процент смертей от каких-то острых ситуаций, потому что мы лучше умеем это лечить. И увеличивается количество смертей на фоне чего-то неизлечимого, что тянется какое-то время, как БАС или что-то ещё. Тогда встаёт вопрос – почему эти люди вообще умирают в отделениях реанимации? Это, конечно, очень связано с тем, о чём мы с тобой говорим. Это, конечно, об отрицании смерти. Потому что для того, чтобы человек умер не в реанимации, допустим, даже в нашей с тобой работе – в работе с больными боковыми атрофическими склерозами, любой другой длительно текущей болячкой, даже с онкологией иногда, – чтобы человек умирал не в реанимации, кто-то должен принять такое решение на каком-то этапе. Кто-то должен сказать: «Поскольку этот человек умирает, не надо его туда тащить». Такое ощущение, что никто этого сказать не может.
Оксана Орлова: То есть у нас задача реанимировать любой ценой?
Анна Сонькина: У нас – да! По закону, по крайней мере, по установке – реанимировать любой ценой. Как нам только что рассказали, в Новосибирске при обсуждении открытия хосписа местный медицинский чиновник заявляет, что не будет хосписа, потому что люди должны умирать там, где они должны – в отделениях реанимации! Кто-то должен сказать: «Я умираю, не тащите меня туда» - либо сам больной, либо его родственники, либо какие-то другие специалисты, либо врачи на входе в реанимацию. Как-то часто никто не решается этого сказать.
Оксана Орлова: Получается, что ты действительно сейчас актуализируешь тему выбора. Человек может и имеет право выбирать. В этом смысле и тема такая – что выбор уже давно забран у человека, у личности, и непонятно разделён.
Анна Сонькина: В России или вообще в государственности?
Оксана Орлова: Я про Россию, про другое государство я не специалист и не могу говорить.
Анна Сонькина: Просто мало ли, может быть, ты вообще говоришь, что государственность в принципе отнимает?..
Оксана Орлова: Я говорю про Россию, потому что есть предпосылки прошлого века, как у нас умирали, погибали люди, колоссальное количество. Около сорока миллионов умерло в прошлом веке, даже фактически в первой половине прошлого века – войны, репрессии…
Анна Сонькина: Не только репрессированных, но и вообще?
Оксана Орлова: Да. И это такая неоплаканная смерть, это травма, которая не пережита, как будто этого нет. Такое слепое пятно. Ты так должен настроить свои внутренние зеркала, как будто это нет, не существует.
Анна Сонькина: Ты была здесь на спектакле «Внуки»?
Оксана Орлова: Нет.
Анна Сонькина: Это об этом.
Оксана Орлова: Понимаешь, получается какая-то такая тема, что переживать – нехорошо. Тема смерти как будто бы не человеческая, что ли. Она как будто бы государственной становится. Есть ещё такое понятие. Область государства – как такая страшная баба. У Кати Михайловой есть такое описание. Это некая женщина или подобие женщины, которая в таком же отчаянии. Она тоже еле сводит концы с концами, у неё тоже есть такие – даже не чувства, а я бы сказала – эмоции, реагирование. Это такой типичный образ госслужащего. Что про медицину, что про образование – везде. Про армию то же самое. Это персонаж, который лишён каких-либо человеческих, тёплых чувств. Люди очень боятся этого образа. Знаешь, как в поликлинике: «Вас тут тысячи, а я одна, что вы все пришли?». Мне кажется, когда эта страшная баба забирает эту смерть, когда врачи решают… Мы знаем, что с онкобольными, например… Люди после химиотерапии сидят часами в очередях, чтобы попасть к врачу. И действительно, так всё устроено, что ты становишься каким-то винтиком в этой системе, и врач тебе говорит, что нужно делать или не делать, как будто бы он рулит этим, а человек никакого права голоса не имеет.
Анна Сонькина: Да, ты знаешь, многие в ответ на такое рассуждение говорят: «Ну не отдавай ты в лапы государства свою смерть». Один человек сказал, когда речь шла об очень тяжело больном ребёнке, который бы давно умер, но его очень агрессивно продолжали лечить, а родители очень просили прекратить, и это не было возможно сделать, - «Если им не нравится, что медицина их лечит, пусть они не обращаются к ней вовсе». То есть не приходи, зачем ты пришёл? В этом очень большой подвох. Очень многие на это закусывают язык и говорят: «Ой, да, действительно, что ты у государства просишь? Иди и делай сам».
Оксана Орлова: Получается опять такое противопоставление – либо государство, либо человек, или-или. А чтобы государство было на стороне человека – это вообще нонсенс.
Анна Сонькина: Получается так. А проблема в том, что страдающий человек обращается за помощью не потому, что он законопослушный гражданин, а потому что он страдает и ему нужна помощь! Если эту помощь может дать только государство, как нашим больным с БАС – вот пример. Они знают, что им не будет там хорошо – в больнице, в реанимации, но едут, потому что плохо. Потому что это единственное, что вообще есть. Это ужасная, этически неверная позиция: «У вас же есть право, у вас есть свобода – берите и действуйте свободно». Во мне уже преподаватель просыпается. Важнейший принцип в медицине – автономия пациента. Автономия – право на реализацию, на самостоятельность. Один из четырёх базовых принципов современной медицинской этики. Основа философского понимания автономии в том, что в любой ситуации неравенства, - а «врач-пациент» – это всегда неравная ситуация, по определению.
Оксана Орлова: То есть эта иерархия задана заранее.
Анна Сонькина: Всегда! Я всегда говорю – есть простая иллюстрация. Врач в любой момент может сказать: «Я больше врачом не буду». Пациент не может сказать «Я больше не буду пациентом». Он подневольная фигура здесь. И автономия пациента в зависимой позиции проявится только тогда, когда сильная сторона активно даст ему эту автономию. Грубо говоря, пациент не может сам прийти и вытребовать её себе: «Я имею право на то-то, я отказываюсь от того, что ты со мной делаешь», потому что тот, кто делает – сильный. «Я тебя интубирую – как врач – и ты не можешь отказаться, потому что ты уже без сознания». Чтобы отказ пациента от такого вмешательства в его жизнь состоялся, надо предпринять определённые шаги. Надо сказать: «ОК, мы видим, что происходит так, что многие люди отказались от реанимации в момент смерти. Что делать, если они без сознания? Надо им дать возможность высказать решение заранее» - это не так просто! Но, по крайней мере, надо предпринимать какие-то шаги. Именно активной стороне. А в нашей стране это значит – государству. Ну что поделаешь, если у нас медицина государственная? Если то, что нужно для помощи умирающим, находится под контролем государства? Скажем, для помощи умирающим нужны сильные препараты – наркотические анальгетики. Они под контролем государства по международному праву. Всё. Это уже значит, что государство не может снять с себя ответственность.
Оксана Орлова: Я как раз думаю про эту передачу ответственности. С одной стороны государство берёт на себя ответственность. В этом смысле пациент, человек, который более и которому нужна помощь, становится жертвой практически безответственной. За него решают, он ничего не решает, он в пассиве. Получается вся ответственность идёт к врачам. Я ещё работаю с врачами, бедными и несчастными, которые от этой ответственности загибаются.
Анна Сонькина: Тем более ты должна понимать, что врачи, на которых эта ответственность… А ответственность, надо ещё понимать, перед кем? У нас в стране ответственность не перед пациентом. Ты чувствуешь это? Ответственность перед законом.
Оксана Орлова: Да, и все избегают этой ответственности, потому что боятся.
Анна Сонькина: Это ещё одна вещь, которую мы обсуждаем со студентами.
Оксана Орлова: То есть всё время есть взгляд какого-то третьего человека, надзирателя, который контролирует. «Так, сейчас накажу!».
Анна Сонькина: Я не несу ответственности перед пациентом, кроме моральной. Но, извините, ни одна система не работает, если мы её отдаём на откуп личным свойствам её членов. Ответственности перед пациентом нет. Ответственности перед пациентским сообществом за лицо профессии нет, потому что у нас нет саморегулируемых профессиональных сообществ, того, на чём держится любой профессионализм. Есть только ответственность перед тем, кто может меня посадить, если ему не понравится, что я делаю: если у меня не такая смертность в отделении, если у меня неправильно выписан рецепт и так далее. Поэтому ответственность за все решения лежит на враче, отвечает он ни в коем случае не перед пациентом, а перед начальством, которому нужно что-то совершенно другое. Которое то, как умрёт этот человек, не заботит вообще. Там совершенно другие, какие-то свои заботы.
Оксана Орлова: Ты знаешь, я ещё работаю с мамами, у которых умирают дети. Это тоже такая очень тяжёлая тема, но когда они мне рассказывают эти травмирующие эпизоды, у них очень часто звучит именно рассказ о том, как они взаимодействовали с врачами. Такая типичная фраза: «Мамаша, а вы что хотите, у вас ребёнок умирает, вы чего тут пришли?». Ни имени нет этой мамы, ни какого-то сочувствия, какой-то теплоты. И вот это наиболее травматичная ситуация. Человек не хочет, чтобы его носили на руках, он хочет, чтобы к нему относились по-человечески. Второе, что я вспоминаю, когда ты говоришь про ответственность , - у нас есть много опыта, когда человек более неизлечимо и умирает, но достаточно часто он не знает об этом, ему не говорят, что он умирает. Опять же, кто-то: государство, врач, родственник, - решает, чтобы ему не говорили. Какое право человек имеет не говорить, что ты умираешь? Это твой счёт жизни, это твоя точка, в которую ты упираешься. Ты успеваешь что-то завершить… Это уважение к человеку – сказать ему. Я, конечно, понимаю, что есть хрупкие люди, которые могут впасть в депрессию, собственно, наша задача ему помочь преодолеть её.
Анна Сонькина: Наша задача ещё понимать, что впадение в депрессию – это не всегда нанесённый нами вред, а очень может быть, наоборот. Человек не может узнать, что он умирает и не пройти через стадию депрессии. Может быть, может иногда. Но хоть капельку она должна пройти, это одна из стадий переживания утраты, правда же?
Оксана Орлова: С другой стороны, если бы он не депрессовал, в клиническом понимании, когда выхода нет, когда всё плохо – действительно, в этот момент по факту так! На самом деле человек умирает. Но это можно пережить как-то. «Хорошо, но пока я живу, я могу что-то делать. Я принимаю реальность такой, какая она есть, у всех людей будет смерть, у меня она будет в ближайшее время. Я могу с этим соотнестись как-то». Лишить человека этой возможности – у меня просто не укладывается в голове.
Анна Сонькина: Но по закону в России только сам человек может получать от врача информацию о своём здоровье, а родственники – только с его позволения. У нас же сплошь и рядом, и не только с БАСом, с онкологией, везде – это правило общее, сначала сообщают родственникам, и потом только самому человеку. Я не представляю, вот если я попаду в больницу с тяжёлым заболеванием, мне даже интересно, кого они выберут в качестве того самого родственника, который потом будет решать, говорить мне или не говорить. Интересно подумать, правда?
Оксана Орлова: Представляешь, что ложится на плечи родственников?
Анна Сонькина: Вот кто это будет? Я уже в разводе. Значит кто? Родители мои. Они тоже в разводе – тогда кто из них? Кто мне самый близкий человек – кто знает это? Но это повсеместная практика. И больше того, врачи настолько уверены, что человеку нельзя говорить о том, что он умирает, что они родственников так настраивают! «Зачем?! Не говорите!».
Оксана Орлова: Тогда подразумевается, что человек, которому это говорят, настолько хрупкий, маленький, без жизненного опыта, что он не переживёт, не сможет это принять. И тогда что? Он и так умирает. Что тогда произойдёт? Правда, непонятно.
Анна Сонькина: Мне очень понятно. Ты сообщала когда-нибудь кому-нибудь, что он умирает?
Оксана Орлова: Я наблюдала, была рядом.
Анна Сонькина: Это очень страшно слышать.
Оксана Орлова: Это правда.
Анна Сонькина: И первый шаг на пути преодоления этого барьера – просто признаться самим себе. Это очень трудно делать по ряду причин. Потому что ты тот самый гонец, который приносит плохую весть. Потому что на тебя сейчас может обрушиться агрессия. Потому что перед тобой сейчас могут заплакать. А что тебе делать, если тебе некомфортно выражать сочувствие? И вообще, тебе некогда. В конце концов, это напоминание о собственной смерти. И вообще о смерти говорить неприятно. Для многих врачей это признание собственного бессилия. Первое – это признать, что это трудно! Сказать: «Вы знаете, всем трудно, но что-то надо делать».
Оксана Орлова: Здесь ещё подход должен быть… Когда врач сообщает о диагнозе, он боится реакции других людей, проявления чувств, но на самом деле он не очень понимает, что с ними происходит. Мне кажется, это вопрос о столкновении с собственным переживанием.
Анна Сонькина: Зачастую. Я очень с тобой согласна. Я просто добавлю. Я просто не знаю, в какой степени. Я знаю, что в огромной степени – это отсутствие навыка. Наши любимые неврологи, когда мы с ними начали работать, говорили: «Мы не сообщаем никогда».
Оксана Орлова: Разве что написать на бумажке: «У вас это».
Анна Сонькина: Да. И как только мы стали с ними учиться и проводить тренинги о том, как это надо делать, они как-то почувствовали: «Теперь я могу». То есть часто это просто от непонимания. Всё-таки навык даёт уверенность. Когда я учу сообщать плохие новости, я говорю, что когда вы умеете это делать, когда все навыки у вас в карманах, когда вы умеете ими пользоваться, вы можете не бояться неадекватной реакции пациента. Потому что есть масса доказательств того, что если вы правильно выстраиваете беседу, а правильно – это, грубо говоря, «предупредительный выстрел»: сейчас у нас с вами будет тяжёлый разговор. Потом выяснить, что знает пациент. Потом медленно, кусочками, с большими перерывами ты сообщаешь по определённой логике то, что хочешь сказать. И если всё идёт правильно, у пациента будет масса возможностей сказать или показать: «Стоп. Для меня – много. Я уже начинаю уплывать». Это не только эффективно, это ещё и безопасно можно сделать. Ты можешь быть уверен и родственникам сказать: «Не бойтесь, мы умеем так поговорить с человеком, что это будет для него безопасно». Поэтому одна сторона – это навыки. Но я очень согласна с тобой, что зачастую это собственное отношение к смерти, собственное непережитое.
Оксана Орлова: Ну да, если говорить про медицину, она выстраивается как курабельная медицина, заточенная на то, чтобы человека вылечить. Как будто бы паллиатива – сопровождения умирания – нет. У нас с тобой был разговор о том, где водораздел, где заканчивается курабельность и начинается паллиатив? Да вся медицина на самом деле паллиативная!
Анна Сонькина: Да, это хороший вопрос, потому что совершенно точно уже нельзя говорить о том, что где-то кончается куратив и начинается паллиатив. Так не работает. По факту это не так просто. О том, что вся медицина паллиативная, пожалуй, можно говорить, но только в какой-то момент. Наверно, так могут уже сказать американцы или британцы, где уже несколько десятилетий практика внедрения паллиативных специалистов, говорящий на паллиативном языке, а это «комфорт», «качество жизни», «подготовка», «жизнь здесь и сейчас» и так далее. Внесение вообще контекста возможной смерти. Есть несколько десятилетий практики внедрения такого подхода на очень ранних стадиях, практически с момента постановки тяжёлого диагноза, а в Америке даже до постановки всякого диагноза. Разговоры о смерти чуть ли не в детских садах, проекты со школьниками, реклама по телевизору: «Примите решение», например, о реанимации и так далее. И это не исключительно секулярная вещь. Я знаю один православный приход, полностью американский, в котором священник со своими прихожанами говорит: «Я настаиваю, чтобы вы все написали бумагу о том, что делать, если вы будете в критическом состоянии. Кого вы назначите? Я настаиваю на этом, потому что если медики будут поступать по своему усмотрению, это может составить для вас духовную угрозу». Это отдельный разговор. Я к тому, что в тех странах, где есть такой опыт, где все медики, все, работающие в медицинском поле, пропитаны паллиативным подходом, наверно уже начинаются разговоры о том, зачем разделять? Просто хорошая медицина – она вот такая. Но всё-таки этому предшествовали эти десятилетия, когда были сначала хосписы, абсолютно понятное, очень отдельное место, куда можно прийти и посмотреть: «Надо же, в больнице вот так выглядит смерть, а здесь совсем по-другому». Потом какое-то воссоединение, но всё равно это были специалисты, люди, которые приходили отдельно и разговаривали с пациентами. Всё-таки это настолько другой взгляд на медицину и на жизнь вообще, что мне пока кажется, что он должен существовать в виде отдельного, осязаемого компонента. Конкретные люди, специалисты в этой помощи, конкретные отделения, или места, или службы, чтобы что-то как-то называлось. «То, что мы сейчас с вами делаем – это паллиативная помощь, имейте в виду». Но именно как этап в развитии. Она, действительно, принимается с большим трудом.
Оксана Орлова: Ты говоришь, с детьми разговаривают о смерти. Но ведь в классике жанра ребёнок примерно лет в пять понимает, что он и его близкие смертны, и очень переживает. И это как раз возраст страхов, которые проявляются, когда ребёнок может спать при ночнике, ему кажется, что где-то что-то шевелится… Интересно, что это примерно совпадает.
Анна Сонькина: Это связано или совпадает?
Оксана Орлова: Мне кажется, что похоже. Ребёнку сложно сформулировать: «У меня есть страх смерти».
Анна Сонькина: То есть ты говоришь о том, что страх смерти может рождаться в этот момент, в этом возрасте?
Оксана Орлова: Я думаю, что да, что есть такая сцепка: ты понимаешь, что жизнь – это что-то конечное, когда в сказке кто-то умирает – это становится для тебя чем-то более или менее конкретным. И про собственную смерть, что ты когда-то умрешь, то есть тебя не будет. Что это значит?
Анна Сонькина: Необратимо. Вот это же происходит в пять-шесть лет? Понимание необратимости.
Оксана Орлова: Да. И ты очень привязан к своим близким, к родителям, и они тоже могут умереть. Есть такой страх – потерять.
Анна Сонькина: Ну, вот видишь, как. Это огромный другой пласт – воспитание. Как воспитываются дети. У тебя дети были на похоронах когда-нибудь?
Оксана Орлова: Нет. Были только на 9 дней, на 40 дней.
Анна Сонькина: А на отпевании?
Оксана Орлова: На отпевании не были.
Анна Сонькина: Мои дети были уже несколько раз на отпевании. Старшая моя была первый раз, когда ей было три года. Про три года думаешь – ну, всё равно она ещё ничего не понимает. Потом в пять… То есть каждый несколько лет. И я их всегда беру с собой. Я помню, первый раз, когда мы взяли, я даже не особенно задумывалась об этом – зачем? У меня есть детское воспоминание, первый раз, когда кто-то умер, более или менее близкий, меня взяли на отпевание, подвели к открытому гробу в церкви. Мне поэтому даже странно, когда люди сомневаются, стоит ли это делать. Это, мне кажется, очень важная составляющая проблемы, о которой мы говорим.
Оксана Орлова: Здесь ещё, конечно, важно разговаривать с ребёнком, потому что я знаю моменты, когда у ребёнка такой непереносимый стресс, он не может даже этой внутренней истерики с кем-то разделить.
Анна Сонькина: Разговаривать – это очень важно. Сколько вопросов у нас бывает, если посмотреть на каких-то форумах, порталах, о том, как сказать ребёнку, что кто-то умер в семье или кто-то тяжело болен. Основная тенденция такая, что не надо говорить, зачем ребёнка расстраивать? Надо его увезти на время.
Оксана Орлова: Да, очень долго ребёнок может жить в неведении, это правда страшно. И ребёнок, как локатор, конечно, считывает, что что-то происходит, что куда-то человек делся, что близким верить нельзя, потому что они что-то недоговаривают, и что на самом деле в мире всё не так, как ему говорят. У них есть такое ощущение.
Анна Сонькина: Если говорить о том, что делать дальше… Ко мне всегда студенты прибегают после этих лекций, всегда находится несколько особо расчувствовавшихся, которые говорят: «А что же делать? Что делать?». Я всегда отвечаю, что главное, что вы можете делать – это просто знать об этом. Поэтому спасибо, что пришли. Такое ощущение, что действительно надо говорить об этом. Мы сделали журнал «Отечественные записки», вышел номер о смерти. У меня там статья, в которую я вложила много своих мыслей. Вот это, мне кажется, то, что надо делать. Обращать внимание, говорить. Это начинает происходить сейчас. Дай Бог.